Борис Кукин: «Актер должен быть немного с изъяном»
Народный артист Чувашии отмечает 75-летие
Газета "Мк в Чебоксарах", 27 февраля 2018 г.фото: Регина АврамоваАвтор: Наталия Чемашкина
Он шутит, что сидел на коленях у Надежды Константиновны Крупской, вспоминает, что когда-то здание Театра оперы и балета предназначалось Русскому драматическому после того, как старое затопило при поднятии ГЭС, при встрече в театре обнимает нас, как старых друзей. Беседовать с ним — удовольствие, это невероятно теплый человек. Народный артист Чувашии Борис Кукин 5 марта отмечает свое 75-летие. В преддверии юбилея мы встретились с актером, чтобы порассуждать об актерской судьбе, новом времени и спорах с режиссерами. — Борис Васильевич, в Русском драмтеатре вы старожил. Тот театр, в который вы поступили на службу, и сегодняшний сильно отличаются?
— Борис Васильевич, в Русском драмтеатре вы старожил. Тот театр, в который вы поступили на службу, и сегодняшний сильно отличаются?— Очень. Когда я учился в школе, а я сам коренной чебоксарец, здесь был русский ТЮЗ, куда мы часто ходили, Русский драматический — на Волге, его потом затопило. Театр был местом, где можно было посмотреть спектакль и показать себя. Публика приходила нарядная, непременно была сменная обувь. Открывался занавес, всегда были аплодисменты художнику, потому что оформляли подробно — если изба, то как настоящая, если лес, то несколько планов. Антракт длился по 35 минут, за кулисами стучали молотками, все переделывали… Репетировали по три месяца: месяц за столом разминали пьесу, выстраивали взаимоотношения. Режиссеры были педагогами, работали с актерами, сейчас же — больше постановщики: «Встань туда, пойди туда». А актер ведь должен сам все сделать… Я и сегодня очень люблю репетиции — это самый творческий момент, еще можно что-то поменять, создать, хоть на голову встань, главное — оправдай.
— Сегодня в театре постоянно работают два режиссера. С кем легче?— Наверное, мне ближе все-таки подход Владимира Красотина. Сергей Юнганс — постановщик в чистом виде. Как это говорят, «шаг вправо, шаг влево — расстрел» (смеется). Мне кажется, у него актеры как материал, нет повода для некоего актерского творчества. А вот с Красотиным я могу даже немного поспорить, что-то доказать. Ему в таких случаях надо именно показать, а если не можешь, тогда просто иди за режиссером.
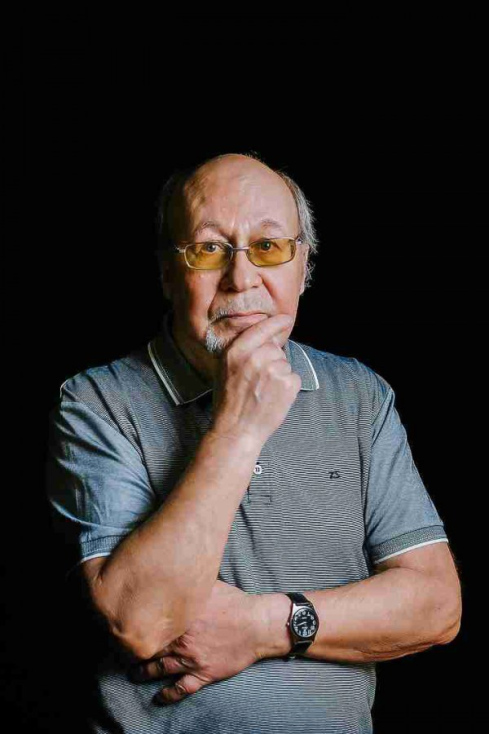 — К театральным экспериментам вы как относитесь?
— К театральным экспериментам вы как относитесь?— Главное — драматургия, это основа основ, без нее вообще ничего быть не может. Но ведь и ее можно та-а-ак перевернуть. Вот, например, играют «Женитьбу» на коньках! Японцы это любят. Или Питер Брук поставил «Три сестры» в спортивном зале. Я не признаю подобные новации, а каких я только не видел! В свое время появилась мода на обнаженку. Если раньше говорили, что «женщина боится обнажиться на сцене», то сейчас «она ждет возможности обнажиться». Был период, когда была псевдоорганика, так называемые шептуны. Зритель их почти не слышал, зато «смотрите, как в жизни». Помню, в Эдинбурге была постановка: выходит масса людей, и все обнаженные… Символ — под одеждой прячутся пороки, а нагота — это первозданная чистота. Символически это, может быть, интересно, но чисто внешне, ну, не знаю… Надо ли показывать голый зад на сцене?
— Я так понимаю, вам ближе классический русский театр?— В этом смысле я ретроград. Хотя я шестидесятник, был стилягой, мы бегали по улицам и орали: «Я иду по Уругваю. Ночь, хоть выколи глаза. Слышны крики попугаев. И мартышек голоса…» В школе все нормальные были, а вечером ходили, пели. Это был такой знак протеста. Люди в нашей стране как выражают протест — или с плакатами выходят, или за рюмкой сидят. А молодежь, как мы тогда, старается выделиться (улыбается). Я очень увлекался музыкой в те годы, повезло — у меня родственник служил в Германии, и он привозил мне очень хорошую музыку, ко мне ее переписывать многие ходили. Шмотки заграничные тоже были, нейлон у меня у одного из первых в городе появился.
— Райкин как-то сказал, что, выходя на сцену, всегда мучительно сомневается в себе, а вот Табаков, напротив, говорит, что нужно «просто понять, что ты приятен»…
— Однажды меня один молодой актер спросил: «Борис Васильевич, скажите, как не надо играть?» Я ему сказал: «Убери «КАК», и все будет понятно». Не надо играть, надо жить, быть, а не казаться. Есть категория актеров, которая любит себя подать — такие «Актеры Актерычи». Часто они пропускают на сцене элементарные вещи. Они чувствуют зал, чувствуют, что нравятся, хотя это все чувствуют… А я, да, я все время сомневаюсь. На премьерах особенно волнуюсь. А когда подряд 10 спектаклей, к этому уже иначе относишься. Хотя каждый спектакль играется по-новому. Актер же приходит на спектакль в разном настроении, может быть, неприятности дома, а играть надо комедию. Психофизика ломается, это очень большая нагрузка. Не зря же смертность в этой профессии высокая.
— Как же в таких условиях себя поберечь, и возможно ли это вообще?— О-о-о! Если беречь себя, то в театре делать вообще нечего. Актер — профессия самопожертвования. Нас на первых курсах предостерегали: «Ребята, вы вообще понимаете, за что вы беретесь? Вы будете получать маленькую зарплату, будут конфликты в семье, будете ездить на выездные спектакли, толкать автобус в грязи. Выбирайте другую профессию, уходите, пока не поздно!» Но есть такие люди, которые умудряются себя беречь и живут долго и спокойно. Может быть, иной раз и надо пройти мимо, но не могу. Вот, например, у меня дочь занимается спасением животных. Я тоже животных очень люблю, вот попал котенок в мотор машины, перемолотило его там, остался без лапы, теперь у нас живет… А как иначе? Я помню, мне лет пять было, мы каждый год уезжали в Юрино, где замок Шереметьева. Была у нас собачонка Дружок, и отец говорит, мол, давай оставим здесь, пусть тут поживет, подождет нас. Стали мы уезжать, а она по берегу бежит, в воду заходит и обратно… Столько лет прошло, а я до сих пор эту картину вижу… Больше всего я не люблю предательства. Как у Островского: «Грешить и каяться, грешить и каяться». Может быть, для кого-то это как семечки, перешагнул и дальше, а я не могу. Дважды я предавал, до сих пор заноза внутри, и меня не единожды, на словах простил, а внутри не выходит.
— И все-таки в выборе своего пути вы не сомневались?— Понимаете, я по гороскопу «Рыбы», а это творческий знак. В школе я не любил точные науки, только начертательную геометрию, потому что там надо было что-то соображать. В те времена за тунеядство судили, но и устроиться на работу было сложно, не висели нигде таблички с надписью «требуется». В школе я проходил производственную практику на Агрегатном заводе, и по окончании меня устроили в ЧЭАЗ. У меня был старенький маленький немецкий станок, на котором точили маленькие резцы из очень тугоплавкого металла. Норма была 40 штук в смену, а я творчески подошел, приноровился и делал 60. Правда, товарищи говорили, что сверх нормы нельзя, расценки снизятся. Так и приходилось складывать оставшиеся 20 штук подальше. Даже там что-то творческое искал. Через год по конкурсу прошел на радио, работал диктором, а потом поступил в Ярославское театральное училище. Меня выбрали секретарем комсомольской организации, было там одно преимущество — закрытые показы фильмов. Я тогда посмотрел «Брак по-итальянски», «Шербургские зонтики», «Заставу Ильича» — запрещенный в те времена фильм…
— Но окончили вы Саратовское театральное училище…— Так вышло. Мы с друзьями жили в общежитии. Среди нас был бард-песенник Витька Соколов, который очень дружил с Булатом Окуджавой. Тот ему даже сборники присылал. Однажды Витька пригласил меня на его творческий вечер в Клуб железнодорожников в Москве. Там поэты были — Тихонов, Асадов… Молодежь сидит, ждет Окуджаву. А он тихо зашел в зал, с края сел, ждал очереди своей… Выступил, извинился и поехал на другое выступление. Только ушел, половину зала как корова языком слизала. Вышло так, что мы с Витькой вместе с Булатом Шаловичем на такси поехали на его выступление. А в те времена Окуджава был крамольным поэтом… В школе и Есенин был запрещен, не говоря уже о Пастернаке и других… Витьку потом отчислить хотели, а я в числе прочих против отчисления проголосовал.
— Но вы ведь не жалели потом, что оказались в Саратовском театральном?— У нас был шикарный курс! Олег Янковский, Слава Гваздков, Женя Поплавский, Андрей Лещенко… А педагоги какие! Раньше театральных училищ было мало, это сейчас выпускаются сотни актеров, а куда они потом? В театре приживаются немногие. У человека должно быть актерское нутро. Режиссеры ведь — садисты (улыбается), издеваются над актерами, крутят, вертят, как хотят. А актеры — люди подневольные.
— Кстати, сегодня в театре довольно молодая труппа с не только местной театральной школой…— Я лично очень люблю молодежь! Помогаю, чем могу. Но ведь не спрашивают, а сам я стесняюсь (смеется), даже когда вижу, что что-то не так. Чтобы советовать, надо понимать, какое ты имеешь на это моральное право. Так ли ты сам хорош? Если спросят, да, я скажу, а нет — промолчу.
Юнганс делает молодежные спектакли с одной командой, а я всегда за молодежь. У меня даже есть свои симпатии (смеется). Вижу, когда перспективы хорошие. У них только беда такая… Они не по своей воле, конечно, но бросаются в количество. Вот, допустим, приходит молодой актер, его сразу занимают во всех спектаклях. Он понимает: «Ага, я много играю, значит, я, наверное, хороший актер». И вместо того чтобы копать в глубину, начинает упускать элементарные вещи. Пропадает то, чему их учили в институте: пришел — увидел — оценил — действую. А молодые часто: пришел — увидел — действую. Пропускают самое важное.
Я считаю, актер всегда должен быть с изъяном, выходят они, все такие молоденькие, здоровенькие, нет у них никаких проблем, молотят текст и молотят. А надо слышать партнера. Ну, посмотри ты ему в глаза, увидь его. А спроси, какого цвета у партнера глаза. Не помнят. Как раньше говорили старики: «Петелька и крючочек». Талантливому человеку, чтобы заплакать на сцене, не нужно вспоминать, как умирает бабушка.
— Иногда, сидя в зале, я обращаю внимание, что зритель не очень готов воспринимать спектакль, особенно когда набит школьниками. Как все-таки их завлечь?— Меня сильно огорчает, что театр вынужденно стал не творческой организацией, а производством. Главный теперь уже не режиссер, а администратор. Чтобы выполнить план, мы днем играем «Боинг» для школьников, спектакль для них не предназначенный. Это дорога может быть и легкая, но не самая правильная. Раньше говорили, что театр несет в себе воспитательную функцию, сегодня это в лучшем случает развлечение. Редко бывают спектакли, заставляющие задуматься. Мы не думали, что «Отель двух миров», а это мой любимый спектакль, там мой герой очень схож со мной, будет так хорошо принят людьми. Там ведь столько мыслей о жизни и смерти. Человек же не думает, что он умрет, он верит, что будет жить вечно. Так он устроен. А надо жить жизнь, чтобы потом в старости не сидеть и не думать, почему я не сделал это или это.
— Но ведь часто говорят, что зрителя своего надо воспитывать…— Это очень долгий процесс, и воспитание не с театра начинается, а с родителей. Есть люди, которые ходят в театр, но на приезжие антрепризные спектакли со знакомыми лицами из телевизора. А ведь такой спектакль собирают за неделю: выучили текст — и вперед. Да и критики как таковой у нас здесь нет, в Интернете в лучшем случае можно увидеть «мне понравился артист такой-то»… Но чтобы мысли какие-то — это редкость. Вы вот иногда пишете, и еще пара человек. А ведь критика — для актеров пища. Зритель — третье действующее лицо, хочется знать, что мы не в пустоту работаем.
— Вот вы точно сказали: «Должно быть актерское нутро». Но ведь в театре не всякий выдержит, здесь, кроме сцены, есть закулисье…— (задумался)… Когда вывешивают распределение ролей, все бегут и смотрят. А если в списке нет, хочешь ты этого или нет, возникает какая-то обида. Есть актеры, которые выпадают на месяц, два… или вообще. Мне повезло, у меня не было такого большого периода. Да, я сейчас меньше играю, чем в молодости. А в молодости ой как мы работали! Гастроли, по три сказки в детских лагерях, потом вечерний спектакль… А потом в отпуск с семьей на море за 16 рублей билет (улыбается)… Да, театр — особый нервный организм, в котором надо уметь существовать, где-то даже усмиряя себя, наступая на гордость, хотя понятно, внутри переживаешь. Хочешь — не хочешь, а изнашивается организм. Вот у вас, журналистов, кстати, тоже нервная профессия (улыбается)…
— Я вас слушаю и понимаю, это все-таки тяжелый хлеб…— Раньше я трафаретно отвечал: «Я пошел в театр, чтобы нести светлое» или «Я хочу прожить несколько жизней, сегодня ты Генрих IV, а завтра бомж». А сейчас говорю, что просто занимаюсь любимой работой.
Наталия Чемашкина
 — Борис Васильевич, в Русском драмтеатре вы старожил. Тот театр, в который вы поступили на службу, и сегодняшний сильно отличаются?
— Борис Васильевич, в Русском драмтеатре вы старожил. Тот театр, в который вы поступили на службу, и сегодняшний сильно отличаются?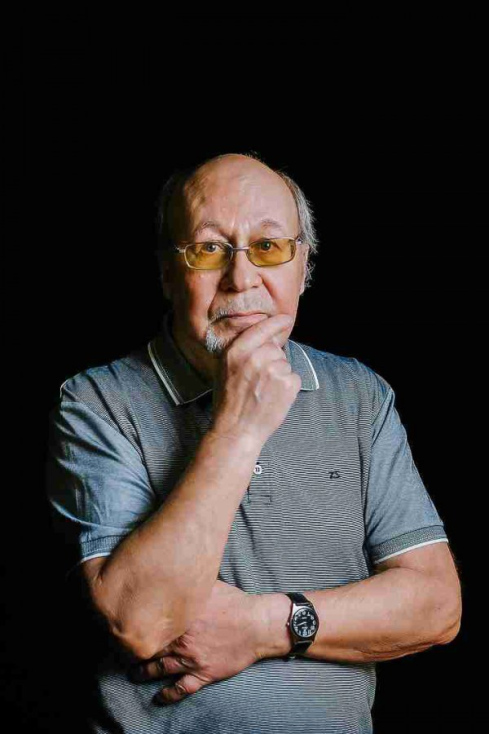 — К театральным экспериментам вы как относитесь?
— К театральным экспериментам вы как относитесь? — Однажды меня один молодой актер спросил: «Борис Васильевич, скажите, как не надо играть?» Я ему сказал: «Убери «КАК», и все будет понятно». Не надо играть, надо жить, быть, а не казаться. Есть категория актеров, которая любит себя подать — такие «Актеры Актерычи». Часто они пропускают на сцене элементарные вещи. Они чувствуют зал, чувствуют, что нравятся, хотя это все чувствуют… А я, да, я все время сомневаюсь. На премьерах особенно волнуюсь. А когда подряд 10 спектаклей, к этому уже иначе относишься. Хотя каждый спектакль играется по-новому. Актер же приходит на спектакль в разном настроении, может быть, неприятности дома, а играть надо комедию. Психофизика ломается, это очень большая нагрузка. Не зря же смертность в этой профессии высокая.
— Однажды меня один молодой актер спросил: «Борис Васильевич, скажите, как не надо играть?» Я ему сказал: «Убери «КАК», и все будет понятно». Не надо играть, надо жить, быть, а не казаться. Есть категория актеров, которая любит себя подать — такие «Актеры Актерычи». Часто они пропускают на сцене элементарные вещи. Они чувствуют зал, чувствуют, что нравятся, хотя это все чувствуют… А я, да, я все время сомневаюсь. На премьерах особенно волнуюсь. А когда подряд 10 спектаклей, к этому уже иначе относишься. Хотя каждый спектакль играется по-новому. Актер же приходит на спектакль в разном настроении, может быть, неприятности дома, а играть надо комедию. Психофизика ломается, это очень большая нагрузка. Не зря же смертность в этой профессии высокая.